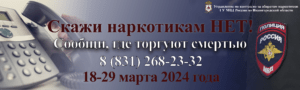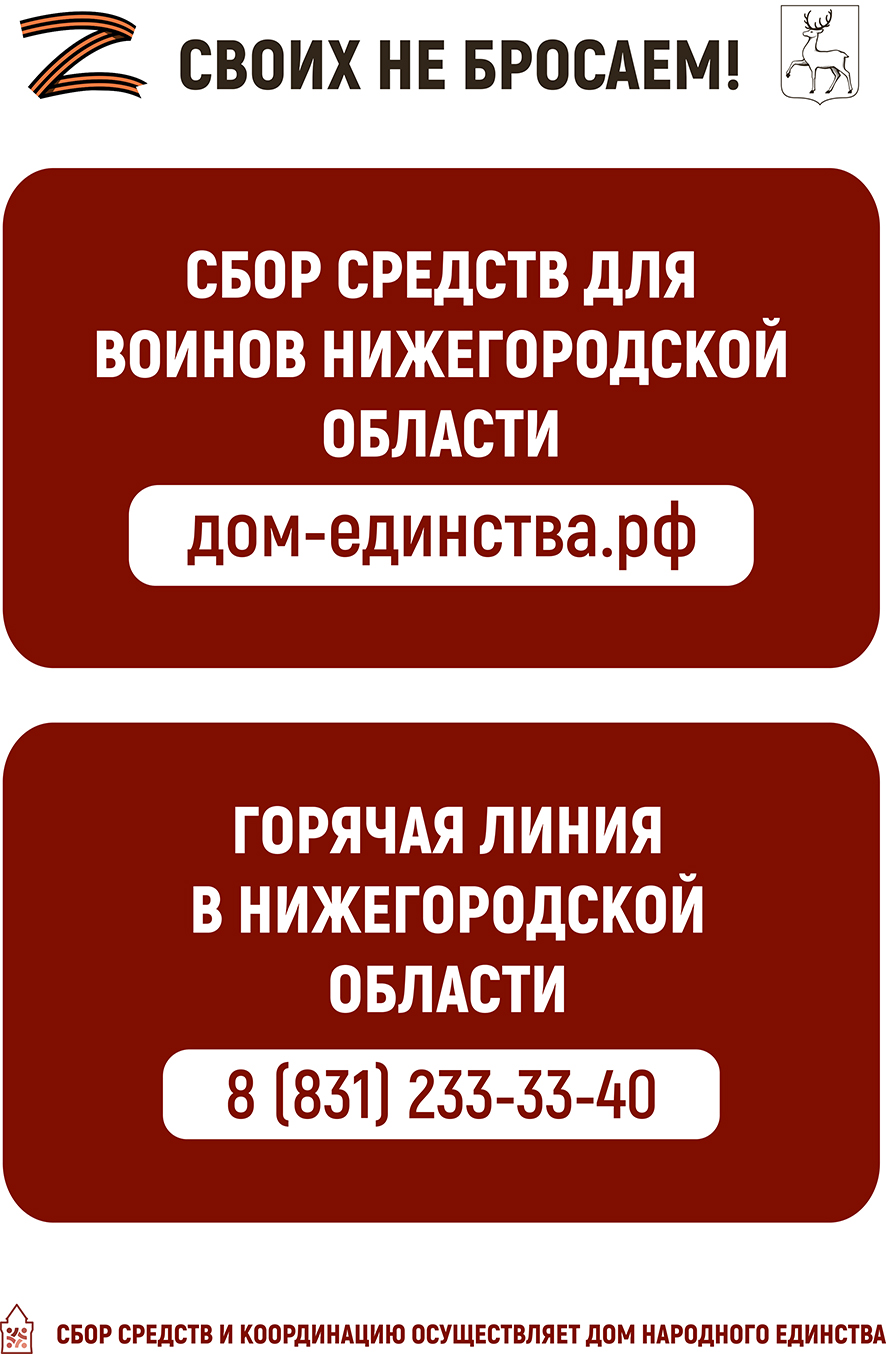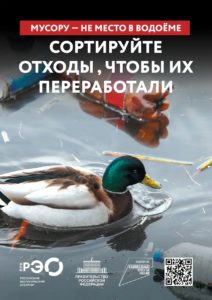«ОДНА ИЗ МНОГИХ, ТАКАЯ, КАК ВСЕ…»
Я давно собираю материалы по истории родного края, откуда мои корни: села Холостой Майдан, Гари, деревня Засека и посёлок Красный Май. Воспоминания односельчан, долгожителей, в плане изучения истории семьи, самый доступный и верный источник. Проживая в городе, я давно собирался навестить нашу дальнюю родственницу, Антонину Михайловну Саянову (Кочеткову), которой, по моим сведениям, было лет под девяносто, и, которая проживала в Холостом Майдане. 8 августа этого года мне, наконец, удалось приехать в село, встретиться с ней, поговорить. Более того, я около четырёх часов записывал её воспоминания о жизни, о трудном военном времени, об истории окрестных деревень и сел, о наших родственниках, близких и дальних.

Плавно лилась её тихая мелодичная речь, она без особого труда называла имена, даты, события восьмидесятилетней давности. О таком собеседнике можно только мечтать! Я сразу подумал, что приеду к ней ещё раз, попозже. Всегда остаются невыясненные обстоятельства, требующие уточнения. Да и просто было очень приятно беседовать с ней! Мы договорились, что ещё встретимся в начале сентября, но утром 23 августа мне позвонили и сказали, что Антонины Михайловны не стало. Она ушла неожиданно, так же тихо, незаметно, как и жила, одна из многих, такая как все…
А я несколько раз прослушивал свой диктофон, перечитывал свои записи и думал, что не имею права молчать. Светлой памяти Антонины Михайловны Саяновой посвящаются эти воспоминания.
Детство
«Я родилась 3 февраля 1933 г. в селе Холостой Майдан Вадского района. Мама моя, Матрёна Александровна, чтобы добыть деньги на пропитание, перед войной и во время войны работала в городе Горьком, поэтому воспитанием моим занимались родители мамы, мои бабушка и дедушка, Наталья Павловна и Александр Васильевич Кочетковы.
Бабушка, Наталья Павловна, была из зажиточной крестьянской семьи Адякиных, что жили в деревне Завод. Родители бабушки Натальи пытались выдать её замуж за парня из зажиточной семьи, но не судьба: Наталья и Александр были влюблены друг в друга.
Выдали бабушку за моего деда Александра Кочеткова в село Холостой Майдан. Семья Кочетковых в начале ХХ столетия считалась бедной. У деда были сёстры: Марфа и Акулина. Марфа была «повитухой». Она пользовалась известностью по всему Арзамасскому уезду, у кого роды принимала, кому кости правила, знала травы и разное лечение. Другая дедушкина сестра, Акулина, в 1930-е годы уехала жить в город Ташкент, как его тогда называли «хлебный город». Но когда началась война, её мужа взяли на войну, она с сыном пешком пришла из Ташкента в Холостой Майдан.
Бабушка Наташа и дедушка Саша Кочетковы венчались в Троицкой церкви села Холостой Майдан 23 ноября 1900 г.
Молодые построили свой дом, держали две лошади, корову и другой скот, был у них большой огород. К 1920-м годам семья Кочетковых считалась крестьянами – середняками.

В любви и согласии в семье Кочетковых родилось шесть детей: тётя Таня, старшая мамина сестра, 1901 г., дальше шли мои дядья – Пётр, 1903 г. и Алексей, 1909 г., моя мама Матрёна, 1912 г., дядя Костя, 1914 г. и младший мамин брат Харитон, 1916 г.
Мамины братья, кроме Харитона, подрастая, уезжали работать на строительство Горьковского автомобильного завода. Они стали городскими, прожив там всю жизнь.
В селе Холостой Майдан в 30-ом году был создан колхоз «Красный луч».
Вся оставшаяся в деревне семья работала в колхозе. Дедушка Александр был шорником, конюхом, работал с лошадьми. Лошадей дед очень любил, бывало, из Завода на конюшню привезут два воза сена на месяц, а он возьмёт, и всё скормит им за неделю!
Бабушка Наташа была знатной грибницей, собирала грибы и ягоды, выращивала овощи на своём участке, солила их на заказ.
Местные батюшка с матушкой Сахаровские всегда просили бабушку засолить им грибов и овощей, она и учителям заготовки делала. Батюшка дружил с нашей семьёй, бабушку в селе уважали. Жили мы, как и все, своим хозяйством.
Холостой Майдан в моей памяти
В нашем селе было несколько улиц. Сейчас их названия кажутся странными: улица Село, улица Бобыловка, улица Завраг и улица Кельи. Наш дом находился на центральной улице, улице Село, которая шла от церкви до Бобыловки.
В особом почёте в Холостом Майдане были так называемые «старые праздники», то есть престольные Троица, день Архангела Михаила – 21 ноября, и Сергиев день. Пасха и Рождество Христово, про них и говорить нечего, во все времена праздниками были Великими. Большое празднество проходило на Михайлов день, прошла пора уборки, можно было и погулять, в этот день многие играли свадьбы.

От Пасхи и до Троицы в селе было заведено каждое воскресенье катать яйца. На Бобыловке два кона, на Завраге два кона, на Селе два кона. Коном называли место, где проходило катание. Значит, дело было так, расчищают площадку, делают разметку, разметают землю, ставят лунку, и доску под уклоном, по этой доске нужно было скатить яйцо так, чтобы оно зацепило другое яйцо, сколько яиц оно зацепит, все твои. Народу много всегда собиралось. На Селе кон был напротив нашего дома, мы с детства очень любили эти игры.
Я ещё маленькая была, в школе не училась, помню, как праздновали Троицу. Утром служба была, все дома в селе украшали берёзовыми веточками. На Бобыловке был мост, гармонисты из села Петлино, деревень Ивановка и Гавриловка и вся холостовская молодёжь нарядятся и идут на этот мост гулять. Песни поют, пляшут.
Перед церковными праздниками родственники из деревни Завод приезжали к нам вечером, бабушка им всем расстелет постели, а утром все вместе шли на службу в церковь.
У батюшки с матушкой был отдельный дом с большим садом. 19 ноября 1937 г. был арестован отец Александр Сахаровский, приехали за ним на лошадях, все думали, что его хотят сослать, через кого-то он успел передать записку матушке Марии Фёдоровне. Потом выяснилось, что его расстреляли 14 декабря 1937 г. в г. Горьком.
Рядом с церковью находились могилы священника и причта Троицкой церкви, умерших до революции, но захоронения до нашего времени не сохранились. В селе жили потомки псаломщика Константина Ивановича Райковского, Бог миловал, к счастью, жили они спокойно, и никто их не трогал.
После ареста батюшки церковь закрыли. Вся утварь и иконы долгое время находились в храме.
Во время засухи, когда долго не было дождей, из церкви выносили все иконы на моление. Все наряжались в чистую и новую одежду, шли в храм. Церковь в то время была уже закрыта. Нас маленьких детей приводили к церкви, сажали у входа гуськом друг за дружкой и над нами выносили иконы. Крестный ход направлялся к колодцу, который был как родник, находился он в Солдатовом овраге в сторону деревни Успенское. Большие иконы несли по большой дороге по два человека. На родник приходили со всей округи: из села Саблукова и деревни Успенское, на бугре, недалеко от родника, вели службу.
Ещё брали иконы во время засухи и ходили с ними на родник, который назывался Рамзай, он находился у деревни Засека. Родник был благоустроен, в виде сруба, на моление у Рамзая собирались жители Холостого Майдана и деревень Засека и Завод. Всегда после моления возвращались либо под дождём, или вечером обязательно был ливень.
Во время войны решили в церкви сделать зернохранилище. Моя мама рассказывала, привозили подводы зерна к церкви и в церковь ссыпали, иконы были все на месте. Уже после войны местные жители стали брать иконы по домам.
«Сонькина гора»
Рядом с селом есть Сонькина гора, бабушка рассказывала, что на ней стоял барский дом. Помещицей была Озерова. Но вот почему Сонькина гора? Скорее всего, кто-то из потомков Озеровой носил имя София. Сейчас место, где стоял дом, изрыто вдоль и поперёк чёрными копателями. Но клада там никакого нет, всё давно уже было найдено. Дом, как вспоминала моя бабушка, во время революции разграбили, вынесли всю мебель, посуду и даже постельное бельё. Потом дом растаскали на дрова. Любит русский человек изломать, искорёжить. Даже судьбу человека.
Когда развернулась кампания по раскулачиванию, то под «раздачу» попал брат моей бабушки Степан Адякин. Его с женой и детьми из Завода велено было выселить, а всё из-за того, что они мясничали, то есть занимались торговлей мясом, в их хозяйстве было две лошади. Всё его нажитое добро отобрали. Бабушкин брат был грамотным, он смог написать жалобу в Москву, во время посадки на поезд он успел отправить это письмо. Письмо дошло до Москвы, и его отпустили. Бабушка вспоминала, как она с мужем убирали урожай на «рубеже» в Холостом (место на горе, где сейчас стоят коттеджи), и увидела брата с семьей, идущих по полю к ним навстречу. Так Степан вернулся из несостоявшейся ссылки.
Промыслов в селе никаких не было. Говорили, что раньше были в селе ткачихи, ткали холсты. В моё время была в селе кузница, колхозная мельница (раньше она принадлежала вроде бы Плакуновым), местные жители занимались в основном земледелием. На усадьбах сеяли просо и гречиху, сажали картошку. Когда мне было четыре годика, бабушка в три часа ночи, как начинает светать, меня поднимет, и говорит: “Тонюшк, пошли полоть просо!” И потом объясняет, что – просо, а что – трава. Осока была похожа на просо, бабушка мне рассказывала, как её отличить. Вот на коленях в четыре годика я и полола. Просо ездили молоть за село Вазьян, там была специальная мельница. Вот таким было моё детство.
Школа
В Холостом Майдане была 4-х летняя школа, которая находилась напротив входа в церковь. До революции школа была земской, и учились в ней 3 класса.
Школа была одноэтажной, деревянной, в одной половине было два класса, во второй половине располагалась квартира учителей, в которой была кухня, спальная комната и детская комната для их детей. Учились в две смены. Учителей было, как привило, двое. Моя первая учительница, Матрёна Владимировна Слакаева, была родом из деревни Гавриловка, которой сейчас уже нет. Она располагалась на левом высоком берегу Ватьмы, между Холостым Майданом и Петлином.
В войну у нас, учеников, ни тетрадей, ни карандашей не было, доставали, кто что мог. А именно на годы войны выпали начальные классы моей учёбы. В основном писали на газетах. Мой дядя, Петя, в войну был механиком кузнечного корпуса на Горьковском автозаводе. У него на работе были чертежи. Одну сторону используют, а оборот был чистый. Вот он эти чертежи мне и привозил, из них я делала тетради.
Летом мы с бабушкой Натальей собирали орехи. Носили их в Арзамас на продажу, сразу же на эти деньги покупали книжки и тетради. Не сладости, не одежду, а книги! Вот как мне хотелось учиться.
Я помню своих первых учителей, сколько бы лет ни прожила. Мужа и жену, Александра Николаевича и Юлию Николаевну Успенских, они жили при школе. Юля Николаевна – образованная, красивая, интеллигентная, прямо эталон женской красоты и добродетели. Как я хотела тогда стать такой же!
Александр Николаевич Успенский родился в 1902 году в семье священника, его сестра, Елизавета Николаевна, была учительницей в с. Петлино. Когда началась война, Александр Николаевич ушел на фронт и в 1944 г. пропал без вести, говорили, что он попал в плен. Двоих детей пришлось воспитывать Юлии Николаевне одной. Когда я училась в 10 классе, то Юлию Николаевну перевели работать в деревню Рахманово. Очень не хотела она уезжать из Холостого, который стал для неё родным. В летние каникулы я ездила к ней в Рахманово, там я познакомилась с сестрой Юлии Николаевны, Августой, которая приехала из Москвы. Видела я их семейный альбом, где Юлия Николаевна была запечатлена молодой. Это была семья московских аристократов.
Война
Когда началась война, многих мужчин призвали в первые месяцы. Моим дядьям, Петру, Константину и Алексею, дали бронь, так как они работали на ГАЗе. Снохи тоже трудились на заводе. ГАЗ во время войны был закрытым военным предприятием. Рабочих не выпускали с территории завода по целой неделе. Неоднократно авиация противника бомбила завод, первая мысль:
– Живы они или нет?
Младший из моих дядьёв, Харитон, женился до войны. В 1939 г. его забрали на срочную службу. До сих пор помню его проводы. На телеге с гармонью провожали его до Заишной горы (у д.Засека), народ нарядный, все песни поют. Сноха Поля была в положении, она с Харитоном на Вад поехала, а мы домой вернулись. Служил он на Дальнем Востоке. Когда началась война, Хритоньку отправили на Западный фронт. Об этом мы узнали из письма, которое он успел отправить, проезжая через нашу станцию Бобыльская. В сентябре 1941 г. мы получили от него последнее письмо и всё, тишина, неизвестность. Моя мама Матрёна с няней Полей, женой Харитона, писали письма, ходили в военкомат, и даже, к гадалкам, думали, вдруг он живой, но всё было безуспешно. Харитон погиб в первые дни войны.
Во время войны в Холостом Майдане расквартировывали людей, вывезенных из блокадного Ленинграда. Ленинградцы жили во многих домах. Школьники ходили в нашу школу, вместе с взрослыми всех нас привлекали на полевые работы в колхоз. Труда мы не боялись.
После 4-х классов нашей школы я пошла в Петлинскую восьмилетку. Когда я училась в 8 классе, умерла моя любимая бабушка Наташа. 10 классов Вадской средней школы я уже заканчивала без её неоценимой помощи.
Я хотела стать учительницей, поэтому окончила Арзамасский учительский институт, работала учителем в Петлинской школе. Когда родился сын, я перешла работать начальником Петлинского почтового отделения. Со своим супругом, Николаем Львовичем Саяновым, мы счастливо прожили более 50 лет».
Конечно, всё, о чем мы говорили с Антониной Михайловной во время той встречи, не описать в небольшом рассказе. Для нас, правнуков и праправнуков, жизнь ровесников Антонины Михайловны уже глубокая история. Нет уже тех людей, обычаев, названий и даже многих сёл, и каждое воспоминание о том времени драгоценно для нас как частица нашей собственной истории. Чем больше мы будем знать свою историю, тем больше будем её любить и беречь. Мне осталось только поблагодарить Антонину Михайловну Саянову за такую долгую, терпеливую, мудрую и красивую человеческую жизнь.
А закончить свой рассказ мне хочется её словами, которые она сказала мне в напутствие: «Я очень люблю свою жизнь, своё село и своих земляков. Часто вспоминаю те далёкие времена. Несмотря на все трудности, народ был добрым, мудрым и умел радоваться жизни. Радоваться тому малому, что дала нам природа: жизни, теплу, солнцу, детям, родным, соседям, односельчанам. Мне так приятно вспоминать всё это. Я желаю тебе, да и всем остальным, оставаться во всех ситуациях самим собой. Учиться, работать, жить по совести. И любить свою малую Родину так, как люблю её я».
Евгений Бутусов, краевед